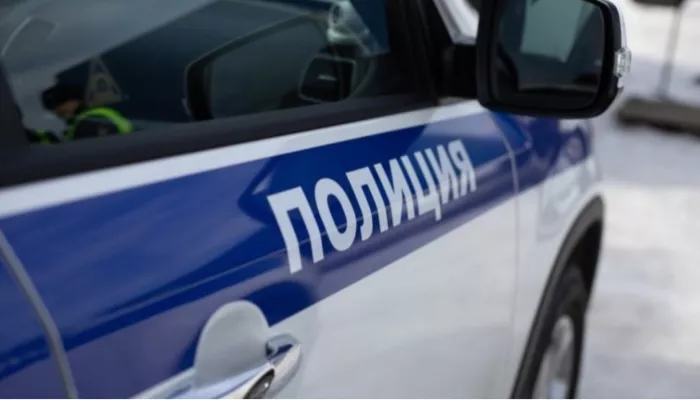В ноябре 2025 года основательница компании "Эвалар" Лариса Прокопьева отпраздновала юбилей. Компания зародилась одновременно с российским фармацевтическим рынком, но история ее становления не похожа на другие
Какую роль в судьбе ее семьи сыграл Алтай, как знания и опыт, полученные на оборонном предприятии, помогли сформировать жесткую и продуктивную систему управления бизнесом, Лариса Прокопьева рассказала в интервью РИА Новости.
– В России немного примеров национальных холдингов, которые сформировались и развились исключительно на одной территории. И в вашем случае, как мне кажется, это связано не только с тем, что здесь была благодатная почва для развития предприятия, но и обусловлено вашими корнями.
– Да, и я тут родилась. И дети мои. И мама, и папа тоже отсюда родом. Они были крестьяне, держали свое хозяйство. Отсюда отец уходил на Великую Отечественную войну, сюда потом вернулся после Победы. Так что здесь, на Алтае, для меня все близкое, понятное и родное. Сейчас Бийск – крупный промышленный центр, но начал он таким становиться уже в 1950-х годах. Так что связь с местной природой не растерялась и действительно в нас укоренена. Например, у нас в семье всегда была традиция выезжать на сбор трав. С моей тетей, она была учителем географии и биологии, мы каждое лето ходили в походы по Алтайскому краю. Она прекрасно разбиралась в травах, в их лечебных свойствах и мне знания передавала.
– Так формировалась домашняя аптечка?
– Да. Много собирали шиповника. Неподалеку от Бийска, на слиянии двух могучих рек — Бии и Катуни, есть Иконников остров. Как раз там мы собирали шиповник ведрами, родители сушили. И потом зимой в термосе заваривали. С лекарствами тогда было туго, а иммунитет надо было поддерживать. Но даже в более благополучные годы традиция эта сохранилась. Я уже со своими детьми так же продолжала ездить за травами, корешки копала. Например, муж мой любил собирать горный бадан. А я – корень кровохлебки. И мы оба знали, что и то и другое – лучшая профилактика и лечение заболеваний ЖКТ. Мы все как-то выросли с этими знаниями, как и многие семьи в Сибири. А интенсивная индустриализация хоть и изменила жизнь Бийска, но связи с традицией не разрушила.
– Город развивался стремительно. В эвакуацию сюда перенесли витаминный и котельный заводы. В 1950-е началось строительство большого комплекса предприятий оборонного профиля.
– И политехнический институт построили, чтобы кадрами эти предприятия обеспечивать. И это тоже во многом определило мою судьбу. Замечательные преподаватели съехались к нам со всей страны – из Москвы, Ленинграда, Ростова-на-Дону.
– Какую специализацию выбрали вы?
– "Технология высокомолекулярных веществ" она называлась. По сути, это химия и технология производства порохов. После института я пришла работать на предприятие и позднее писала в нашем НИИ химических технологий кандидатскую по проблематике твердотопливных систем.
– Оборонные предприятия и институты – это особенная среда, закрытый мир со строжайшими регламентами. Трудно к такому месту было адаптироваться?
– Среда действительно особенная. Ни выносить, ни проносить ничего нельзя. Документация под роспись и так далее. Сурово? Но это была замечательная школа. Ты видел, что на каждое действие есть регламент, есть строгие правила. И что это не регулирование ради регулирования, а вопрос обеспечения безопасности, если брать в расчет, с какими разработками мы имели дело.
Мне очень нравилась эта системность. И карьера быстро развивалась. Через год меня назначили старшим инженером, еще через два – руководителем компании, следом дали должность младшего научного сотрудника, затем старшего. А потом времена в нашей стране резко изменились.
– Сначала перестройка, потом развал СССР.
– Да. Финансирование оборонки закончилось. Но у нас в ФНПЦ "Алтай" был очень мудрый директор. Он собрал руководителей компании и сказал: "Денег нет. Нужно, чтобы каждый шел своим путем, придумывал варианты конверсии, но чтобы мы все тут были в кучке. Поэтому давайте организовывать акционерные общества".
– Широко известна ваша история с разработкой жевательной резинки на ФНПЦ "Алтай". Она до наплыва импорта хорошо продавалась. Но тянуло вас в другие ниши, верно?
– Я поехала в командировку в Польшу, познакомилась с Эвой Дамбровска, директором местной парфюмерно-косметической компании Pollena. У нее уже было СП с одним из новых акционерных обществ, созданных при "Алтае", по розливу духов с названием "Быть может". А я решила развивать направление косметики: делать помады, тени. Pollena давала нам оборудование в аренду. И так получилось, что имя Эвы мы увековечили в названии компании рядом с моим, получилось женственное "Эвалар".
– Но акционером в "Эваларе" она никогда не была?
– Нет. Но в истории нашей запечатлелась.
– Вы потом общались с ней? Она стала свидетелем успеха "Эвалара"?
– Да, конечно, она приезжала неоднократно потом. И с Алтая увезла кое-что более ценное – любовь. Эва вышла замуж за одного из наших коллег, они вместе переехали в Польшу.
– Вот как!
-– Хорошее было сотрудничество во всех смыслах. Мне же те командировки в Польшу в конце 1980-х многое дали. Показали, как вскоре все будет в России развиваться.
– Ну да, у них рыночные реформы стартовали чуть раньше, и полки магазинов быстрее наполнились.
– Тогда меня это, конечно, поразило. Изобилие товаров! В магазин зайдешь — там от пола до потолка все уставлено. И я почувствовала, что аналогичный бум случится и у нас. А несколькими годами позже даже отучилась в Академии народного хозяйства на маркетолога, чтобы лучше понимать законы потребительского рынка.
– Как вам, кстати, дался переход из инженеров-химиков в предприниматели?
– Условия для предпринимательства в эпоху реформ были, конечно, очень сложные: инфляция под 200%, кредиты под 300%, постоянные риски, что продукцию "угонят" и не заплатят по счету. Но мы справились. Да и вообще, когда ты прижат обстоятельствами, мозги всегда лучше работают.
В стране был острый дефицит денег. Большинство сделок шло по бартеру, и нужно было искать способы, как заплатить сотрудникам зарплату. Я придумала открывать аптеки в Бийске. Сначала 2-3 точки было, потом еще добавились.
– Какой продукт стал первым прорывом для "Эвалара"?
– Средство для похудения. Вообще эта разработка пришла из Киргизии. Мы посмотрели, как это работает, попробовали на себе. Мы затаблетировали порошок. Таблетки я зарегистрировала в Москве в Институте питания. Поставили первую партию дистрибьюторам, дали рекламу в газету "Труд". Тема похудения тогда стала сверхактуальной, ее, кстати, активно продвигали промоутеры известной американской компании. И такое позиционирование вкупе с рекламой сработало свыше всяких ожиданий.
– Препарат продавали через аптеки?
– Не только. Не во все аптеки тогда было можно встать на полку. Рынок был еще слабо развит. Поэтому в первых рекламных объявлениях я решила указать телефон нашего диспетчера на ФНПЦ "Алтай". На нас обрушился вал обращений. И мы начали почтой рассылать упаковки по всей стране. Чуть позже целый отдел только этой работой занимался. И только совсем недавно мы эту структуру расформировали.
Это был очень интересный опыт. Мы ни разу не сорвали ни одной поставки. Стабильную лояльную аудиторию смогли наработать. И, наверное, так и начали строить "Эвалар" как общенациональный бренд.
– А почему вы не рассматривали как образец сетевую модель? Ходят промоутеры, рассказывают, как похудеть.
– Мне никогда такой подход не был близок. Я всегда считала, что нашей продукции место в аптеке. Потому что аптека про здоровье, и мы про здоровье. Мы росли вместе с фармрынком, вкладывались в его развитие. Много тратили на рекламу, постоянно совершенствовали снабжение, производство и сбыт и к началу 2000-х стали известны на федеральном уровне.
– Когда вы оглядываетесь назад, что, на ваш взгляд, стало самым важным в развитии компании?
– На мой взгляд, ключевую роль сыграло как раз то, что "Эвалар" создавался сотрудниками оборонного предприятия. Мы ориентированы на технологию, на строгое следование процессам и процедурам, у нас не бывает неважных мелочей. Сейчас много говорится о стандарте, о философии GMP. Так вот, я глубоко уверена, советские оборонные предприятия и были в нашей стране образцом такого подхода, где все делается во имя качества.
– "Эвалар" сейчас ассоциируется уже не только с растительными препаратами и косметикой. Растет доля выпуска синтетических лекарств на вашем предприятии. Это не приведет к смене курса компании в какой-то момент?
– Нет. Это просто диверсификация. Специфика национального фармрынка такова, что доля синтетических препаратов остается высокой. В отличие, к примеру, от той же Германии, где растительные препараты традиционно в большем ходу. И мы видим другие ниши, в которых можем быть конкурентоспособны. Наша задача расти вместе с отраслью, не отставать от нее. Я думаю, что мы движемся в правильном направлении и способствуем развитию и рынка лекарственных препаратов, и рынка БАД по цивилизованному пути.
– Вы каждый день проводите на предприятии. В вашей зоне ответственности направление маркетинга и управление дочерними структурами – аптеками, центром красоты, фитнес-центром, совхозом, где выращиваются лекарственные растения и так далее. А еще вы курируете отделы разработки лекарственных препаратов и БАДов. Как вы на все это находите время?
– Когда система выстроена и работает слаженно и четко, совмещать не так трудно. Но и нелегко тоже было когда-то. Вот взять историю с созданием нашего совхоза. Раньше мы закупали и тоннами перерабатывали растения новосибирского совхоза, входившего в структуру Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, ВИЛАР. Потом поняли, что нужно организовать свое выращивание. Пришлось вникать. Пригласили специалиста из Казахстана с большим опытом в растениеводстве. Штудировали научную литературу, которую ВИЛАР, к счастью, выпускал. Это ведь целая система! Требует и механизации, и оборудования. Сначала мы ручной сбор еще практиковали. Но современные студенты не очень хотят загорать на подработке в полях. Поэтому внедрили механизированную уборку. Даже сбор листьев смородины ведется при помощи комбайнов. Около 30% потребности в растениях мы закрываем при помощи своего сельхозпредприятия. Это дорого нам стоило, но себя оправдывает.
– Так ведь и рискованно. А вдруг неурожай случится?
– Да, Алтай считается зоной рискованного земледелия. Но свое сырье – это определенный гарант нашей стабильности при производстве растительных препаратов. И у себя мы выращиваем в основном дорогие в закупке растения, а также те, что потребляются в наибольших объемах.
– У вас сложилась династия – дочь Наталия работает на предприятии, и уже подрастают внуки. Вы видите их в качестве продолжателей вашего дела?
– Конечно, вижу. И да, хотела бы, чтобы они работали в компании. Но рабочий принцип будет тот же – здесь давить ни на кого нельзя. Дети сами выбирают свой путь. Но я буду очень рада, если в итоге этот маршрут приведет их в "Эвалар".
– Что, по-вашему, помогло компании стать заметной для людей по всей стране?
– Мы очень долго работали на свое имя, выстраивали открытые отношения с потребителями напрямую – не важно, это почтовая рассылка или фирменный сайт. Мы всегда были честны. Именно поэтому мы устояли.