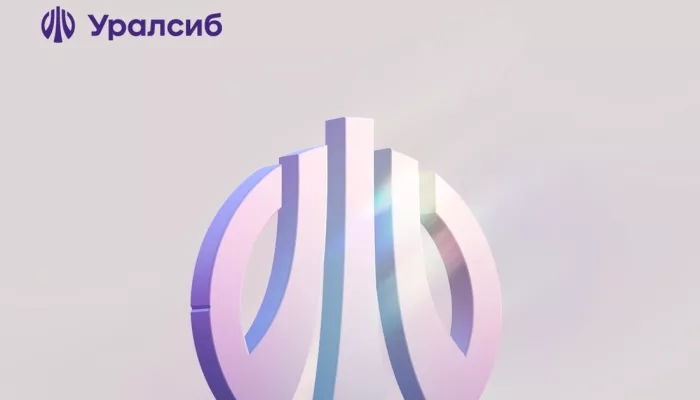По словам Натальи Ильющенко, сегодня меняется поведение покупателей и из-за этого происходит перераспределение спроса - люди чаще ориентируются на цену или конкретную задачу, чем на бренд
"На данный момент моя стратегия – так скоординировать оставшиеся ресурсы, чтобы не приостанавливать работу, не уходить в режим полной экономии, а продолжать деятельность хотя бы на тех же оборотах", – говорит владелица трех брендовых магазинов в Барнауле Наталья Ильющенко (развивает Patrizia Pepe, Gala boutique, Le’81). В интервью "Толку" она рассказала, какие вызовы сегодня стоят перед фешен-индустрией, перед продавцами одежды офлайн и можно ли говорить о наступлении локальных брендов.
Важным становится не бренд, а цена
– Сегодня перед рынком офлайн-продажи брендовой одежды стоит несколько вызовов. Самый очевидный – давление маркетплейсов, электронной торговли. Насколько вы в вашей работе ощущаете усиление этого фактора?
– Для той ниши, в которой я работаю, наверное, ситуация не столь плачевна. Маркетплейсы в основном развиваются за счет увеличения числа локальных брендов и их перепродажи. Как правило, у продавцов на маркетплейсах нет права на реализацию тех марок одежды, которые продаем мы. На любой бренд, который я представляю в Барнауле, у меня есть эксклюзивное право продажи здесь.
Такие же официальные представители есть и в других городах. И никто другой на этих территориях продавать эти бренды не может. Соответственно, если представитель, условно, в Сочи решит продавать товар на всю Россию на маркетплейсе, то ему это будет попросту невыгодно. Ведь у нас нет глубины по ассортименту, у нас есть ширина. Это значит, что у нас будет представлена вся коллекция полностью, но не по 10 единиц на каждый размер.
Нам невыгодно продаваться на маркетплейсах, потому что придется потратить большой объем денег на создание карточки, например, платья, на его съемку, продвижение и т. д. А при этом у нас их всего пять штук.

В России есть несколько крупных электронных площадок, которые тоже имеют право продавать бренды, как у нас. Но и здесь особых проблем не возникает, поскольку у них также есть контрактные взаимоотношения с поставщиками, определенные правила ценообразования, старт времени продаж, скидок и прочие. И они их соблюдают. Иногда возникают какие-то нюансы – фальстарт распродаж или что-то подобное. Но мы задаем вопрос поставщику, прилагая доказательства, и вопрос решается.
Так что здесь особой проблемы нет.
– А в чем есть?
– Происходит перераспределение спроса. Если раньше люди, допустим, покупали конкретные бренды, были на них нацелены, то сейчас, в условиях изменения ценовой политики, клиенты ищут альтернативы. И для них уже, возможно, не так важен конкретный бренд, как цена вещи.
– Соотношение цена-качество?
– Качество, вы знаете, тоже уже понятие относительное. Его трудно определить. То, что люди называют качественным, порой таковым не является, и наоборот. К сожалению, сейчас так устроен рынок в целом, что цена — это не показатель качества.
Сегодня люди делают выбор, руководствуясь в основном другими мотивами. Скажем, нужно закрыть какой-то насущный вопрос – купить верхнюю одежду на зиму. Или молодой человек хочет во что бы то ни стало приобрести трендовую вещь. Либо, действительно, ищут то качество вещи, которое бы их устроило, за имеющийся бюджет.

– Правильно ли я поняла, что если раньше покупательница могла прийти в ваш отдел и купить платье за N-ую сумму, то теперь, когда платье стоит N плюс 10, то она будет искать уже другое платье за прежний бюджет?
– Примерно так. Но не только. Люди начинают в принципе больше интересоваться тем, что есть на рынке одежды, а он перенасыщен, на мой взгляд. Есть всё, везде и за любые деньги. Поэтому большое значение имеет то, какая у человека потребительская привычка – как он совершает покупку: импульсивно или продумав заранее. Важны ли ему контакты, некий эмоциональный опыт, который он получает в магазине офлайн, где ему показали, подобрали, помогли, проконсультировали. Или, наоборот, ему важно то, что он находится дома, в спокойной обстановке. Это разные привычки.
По локальным брендам – спад
– Вы упомянули о локальных брендах. Последние три года можно говорить о всплеске числа отечественных брендов и моды на них. И рыночные, и геополитические причины свою роль сыграли. Но, говорят, далеко не все марки смогли удержаться на рынке. Как вы оцениваете этот тренд?
– Отечественные бренды уже достаточно долгое время находятся на подъеме. Этот рынок начал расширяться еще и до геополитических событий. Мне кажется, сейчас, наоборот, происходит некий спад. У некоторых крупных игроков произошли внутренние изменения, допустим, разошлись партнеры. Некоторые закрылись, обанкротились – это открытая информация.
По сути, сейчас мы видим больше рост мелких брендов. При этом часть из них, будучи придуманными нашими соотечественниками, отшиваются не здесь, а в Китае, Турции и т. д. Это в целом объяснимо. В России эта ниша не очень развита. У нас не хватает тканей, мощностей производства, кадров – тех же раскройщиков. Сложно найти производство, которое бы стабильно выдавало хороший результат – быстро, качественно и в срок.
Поэтому возникает аутсорсинг. Это видно даже по рынку HR. Допустим, на позицию продакт-менеджеров в российские компании чаще всего ищут людей с опытом работы с китайскими фабриками. Можно сделать вывод, где отшиваются коллекции.
При этом производства небольших брендов могут находиться и в России. Скажем, и у нас в Барнауле есть такие. Они добиваются хорошего качества, но объемы у них другие. Соответственно, цена повыше, и им сложнее на рынке. Я уверена, что они не купаются в деньгах.

Налоги и маркировка
– Еще один вызов для ретейла сегодня – налоговая реформа, которая стартовала с начала года. На фоне инфляции обороты растут, и возникают риски уплаты совсем другого объема налогов. Вас это коснулось?
– Обороты у нас не выросли. И на самом деле в этом-то и проблема. У нас сократились прибыль, рентабельность. Мы не растем в оборотах при росте затрат и издержек. При этом мы еще и зависим от сезонности.
На данный момент моя личная стратегия – так скоординировать оставшиеся ресурсы, чтобы не приостанавливать работу, не сбавлять темп, не уходить в режим полной экономии, а продолжать деятельность хотя бы на тех же оборотах.
А налоговая реформа, конечно, отражается. И дело не только в дополнительных объемах самого налога, но и в косвенных расходах – на ту же бухгалтерию, например, теперь нужна совершенно иная отчетность, или на оборудование.
– Кстати, о косвенных затратах. Маркировка тоже затронула вас напрямую?
– Конечно, мы полностью маркируем свой товар. На нашу продукцию она вводилась поэтапно. Начали, если я не ошибаюсь, с 2019 года, когда стали чипировать верхнюю одежду и обувь. И сейчас ожидаем новый этап с сентября.
Но это всегда сложно. К сожалению, "Честный знак" работает не всегда четко и корректно. Возникает очень много технических моментов, которые никто не знает, как решить, – ни их служба поддержки, ни специалисты на местах. Плюс постоянно нужно обновлять оборудование. Уже несколько раз проходила перемаркировка, менялся сам этот код, потом добавлялся криптохвост. Все это требовало замены сканеров. Потом в кассовое оборудование нужно было разместить токены. И так далее, и так далее.
С ноября 2024 года возникло еще одно новшество. Продавая маркируемую вещь, мы должны сразу эту марку считать сканером. В режиме реального времени система "Честный знак" дает ответ, что марка проверена, и только после этого мы можем сформировать чек. А ситуации бывают разные. То оборудование "слетело", то сканер не может считать, то интернет, как сейчас, "глушат". И ответ от системы не приходит. И всё – мы не можем сформировать и отдать чек.
– А вам понятна идеология этой маркировки? С одной стороны, вроде бы борьба с контрафактом. С другой, эта продукция даже потенциально не несет рисков для человека, в отличие, скажем, от БАДов или молочной продукции.
– С точки зрения обывателя, мне непонятна целесообразность. А с точки зрения урегулирования всего товарного потока, который в стране есть, то, наверное, в этом есть резон. Просто мне кажется, что этого можно было бы добиться какими-то другими, более удобными способами.
То есть продавец определенных брендов вроде бы должен радоваться, что их никто больше не будет реализовывать. Но опыт и сам процесс маркировки говорят, что на самом деле различные продавцы могут работать на рынке и продавать разные вещи. Невозможно все отследить. И тогда с точки зрения защиты потребителя, наверное, эта система не работает. Но она позволяет государству контролировать официального продавца.
Сохраняется средний сегмент
– Вы торгуете европейскими брендами. Нет ли у вас проблем с приобретением товара и расчетами по ним?
– Есть. Но это не только наша проблема, и сегодня мы и многие наши коллеги ищем различные варианты решения.
Мы чаще всего приобретаем товар у российских поставщиков, которые также получили на это права. Но договор у нас в любом случае – с зарубежным партнером, контракты заключаются напрямую с компаниями, в основном итальянскими. Просто мы не выступаем импортером, так как это слишком сложно с точки зрения работы с таможней.

– Нет ли у вас мыслей провести ротацию брендов в своих магазинах?
– Внутри, скажем так, европейских брендов я ротацию время от времени и так провожу. Это естественный процесс – какие-то оказываются коммерчески более привлекательными, какие-то менее. Одни хорошо принимаются покупателями, другие – не очень.
Есть якорные бренды, с которыми мы работаем много лет. Есть новенькие, которые мы подхватываем. Можем варьировать количество представленных брендов. Например, сейчас оно стало меньше, потому что нам нужно выстоять на текущем рынке, а спрос упал, и это очевидно всем. Поэтому от каких-то брендов можем отказаться или сократить объем представленного. Смотрим по продажам.
И эти наблюдения показывают иногда неожиданные результаты. Например, у нас есть вещи разной ценовой категории – в своей нише, конечно. Я предполагала, что те товары, которые подешевле, в текущей ситуации станут продаваться лучше. А это оказалось не так. Хуже стали уходить товары самого высокого и самого низкого ценового сегмента, средний остался на прежнем уровне.
– С какого времени вы начали отмечать снижение спроса?
– Самым хорошим был 2022 год. А в 2023-м уже пошло падение. 2024-й оказался неровным: какие-то периоды были хуже, какие-то – лучше. Начало 2025 года оказалось успешнее, чем начало 2024-го. Но нужно ждать, как себя покажут продажи осенне-зимних коллекций.

– А что лучше обычно продается – лето или зима?
– Раньше всегда лучше продавалась зима – это более серьезные вещи: верхняя одежда, теплая обувь. Но последние года четыре стало активнее продаваться лето. Это связано в том числе с общим потеплением – зимы не такие холодные, как раньше, и это заметно. Почему, допустим, многие на российском рынке плохо отработали в прошлом году? Потому что отшили огромное количество пуховиков, пальто, другой верхней одежды. А было тепло, особенно в европейской части страны. А 60% продаж – это верхняя одежда. И большие остатки потом тоже надо было куда-то реализовать.
– Вы не думали ввести в линейки отечественные бренды?
– С российскими я работать практически не пробовала – буквально пару раз на протяжении 18 лет, в качестве эксперимента. Но с ними сложно. Во-первых, потому что нет выработанных стандартов рынка, к сожалению. То есть если мы берем не просто пошив/продажу, а именно фешен-индустрию, то в России пока в недостаточной степени сформировалась сама ее культура, в том числе поведение игроков на рынке.
Скажем, права на продажу одного и того же бренда могут отдать двум магазинам в одном городе. Для Барнаула это смерти подобно. А такое случалось – и я, и другой продавец оказались в неприятной ситуации.
В отношении новых отечественных брендов есть вопросы по ценообразованию. У них оптовая цена от розничной почти не отличается, поскольку большинство из них сами продают свою одежду онлайн. То есть им не очень выгодно делать оптовую цену низкой. А мне тогда не очень выгодно их перепродавать, потому что у меня собственные расходы большие и все время растут, а сделать адекватную наценку я не могу, так как стану неконкурентоспособной.

"Теплые" контакты
– Вы прогнозируете и дальнейшее изменение потребительского поведения?
– Оно всегда меняется постепенно. Нет такого, что было так, а резко стало по-другому. Поведение формируют сами покупатели. Скажем, у нас появляются новые клиенты, которых раньше не было. Мы проводим свое внутреннее мини-исследование, откуда они к нам пришли. И оказалось, что чаще всего, как ни странно, это люди, которые просто шли мимо.
– В этих условиях растет значение витрины, наверно.
– Да. И того, как их встретят продавцы. Люди хотят эмоций. Те, кому они не нужны, покупают онлайн, и мы за них даже не боремся, потому что это очень дорого. В привлечение одного клиента, который покупает, только сидя в телефоне или за компьютером, мы должны вложить неимоверное количество денег. И то не факт, что он останется с нами. А вот с теми клиентами, которые готовы покупать офлайн, мы работаем.
– Вы согласны с тезисом, что всё равно всё рано или поздно уйдет в онлайн.
– Мне кажется, что нет. Потому что остается важным контакт "человек-человек". И даже если сама продажа уйдет в электронную сферу, то она сама преобразуется. То есть, покупая онлайн, люди будут искать возможности живого контакта. Это может быть курьер, который привезет товар, или стилист, который поможет принять решение. Может быть, какая-то другая форма будет. Но контакт, эмоциональная связь останутся важны.
Сегодня все научились делать красивую упаковку, класть в нее комплименты – открытки, конфетки, записки и т. д. Но этого недостаточно. Недавно я заказала постельное белье онлайн. Пришла очень красивая коробка. Я знаю компанию, которая производит это белье, ее хозяйку – понимаю, что это всё ручками сделано. Но по факту сильных эмоций это не вызывает. Мне гораздо приятнее прийти в магазин, поговорить, потрогать – и купить. Возможно, поэтому сейчас люди, как мне кажется, чаще стали ходить по ресторанам, по кафе, потому что потребность в общении по-прежнему остается очень высокой.